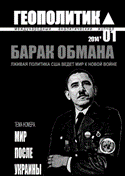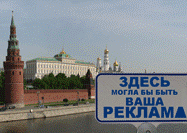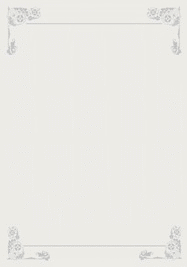ГОГОЛЬ – «ЛЮБЯЩИЙ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ» РОССИИ / Михаил Антонов, член Союза писателей России (4 часть)
 Много лет назад я, читая пьесу К.Паустовского «Наш современник (Пушкин)», обнаружил там такую сцену. Поэт, заблудившись в лесу, нечаянно вышел в асположение артиллерийской части. А офицер, командовавший батареей, приказал дать салют в честь великого русского поэта. Помню, тогда мне эта сцена показалась надуманной. Но, оказывается, такой случай действительно был. Офицер, устроивший салют в честь Пушкина, впоследствии стал монахом и жил в оптином скиту. Он, монах Порфирий, сохранил пламенную любовь к русской литературе и, естественно, с восторгом принял Гоголя, часто с ним беседовал и горячо уговаривал его продолжить служение Родине художественным словом. Много лет назад я, читая пьесу К.Паустовского «Наш современник (Пушкин)», обнаружил там такую сцену. Поэт, заблудившись в лесу, нечаянно вышел в асположение артиллерийской части. А офицер, командовавший батареей, приказал дать салют в честь великого русского поэта. Помню, тогда мне эта сцена показалась надуманной. Но, оказывается, такой случай действительно был. Офицер, устроивший салют в честь Пушкина, впоследствии стал монахом и жил в оптином скиту. Он, монах Порфирий, сохранил пламенную любовь к русской литературе и, естественно, с восторгом принял Гоголя, часто с ним беседовал и горячо уговаривал его продолжить служение Родине художественным словом.
То, что Гоголь увидел в Оптиной, он воспринял как новый мир, о существовании которого мог прежде лишь догадываться, мир святости, чистоты и самоотверженной любви ко всем людям. И прежде он именно так представлял себе идеал, но теперь он открылся ему как реально существующий.
По возвращении в Москву Гоголь быстро воплотил замысел второго тома. Как и первый, он состоял из одиннадцати глав, и героем его, оказавшим решающее благотворное влияние на Чичикова, стал священнослужитель. Но у этой редакции второго тома оказалась трудная судьба.
Ещё тогда, когда только вышла в свет его «Переписка», он получил сердитое письмо от священника из Ржева Матвея Константиновского, не соглашавшегося с его суждениями о роли театра в духовной жизни народа. Завязавшаяся переписка привела к личному знакомству.
Отец Матвей произвёл на Гоголя сильнейшее впечатление несокрушимой верой. Гоголя восхищали в нём преданность своему делу, бескорыстие, аскетизм, редкий дар проповедника и такое великолепное знание народного русского языка, какое почти не встречалось в среде литераторов, и изумительное красноречие. О его проповедях один современник говорил: «Так в старину гремели златоусты!»
Гоголь, как уже отмечалось, ощущал своё писательство как пророческое служение России и человечеству. Пророческому характеру второго и третьего томов должен был отвечать и пророческий язык, в овладении которым, думал Гоголь, ему и поможет общение с о.Матвеем. Вот почему он и выбрал о.Матвея своим духовным отцом. Он тогда не предполагал, что это создаст ему большие проблемы.
Современники вспоминали о нём разное. Розанов выбрал из этих воспоминаний то, что имело отношение к Гоголю: о.Матвей «кричит Гоголю (при первой встрече) «Зачем не подходите под благословение моё? Значит, бегаете благодати?» Он сам себе представляется каким-то мешком с благодатью, из которого она сыплется как мука. Это, можно сказать, зверски-невежественное понятие о благодати и смешение себя с Богом –очень распространено как на Западе, так и у нас. «Значит, вы Богу не хотите повиноваться»… «Значит, вы Бога не признаёте»… О.Матвей – самый нераскаянный человек. Во всех его поступках – ни одной мысли, что может быть и он грешен. Он – Зевс, сошедший с Олимпа…» Но пока Гоголь в Оптиной, и его отношения с о.Матвеем ничем особенным не омрачены.
Гоголь был поражён всем увиденным и услышанным в обители. Он как бы попал в совершенно новый для него мир, который воспринял как мир святости, чистоты и самоотверженной любви к людям. Прежде он мог предполагать, что такой мир существует, но теперь увидел его воочию. Но более всего его поразил сам старец, который десятилетиями нёс добровольный крест, совершая незримый для общества подвиг бескорыстного служения людям. Вот тогда-то писатель и обрел давно и до того безуспешно отыскиваемый идеал человека. Он решил, что это – как раз то, чего ему не хватало для завершения второго тома.
СУДЬБА ВТОРОГО ТОМА И СМЕРТЬ ГОГОЛЯ
По возвращении в Москву Гоголь очень быстро написал второй том поэмы, состоявший, как и первый, из одиннадцати глав. И героем, оказавшим решающее благотворное влияние на Чичикова, стал священнослужитель. Но у этой редакции второго тома оказалась трудная судьба.
Тут надо заметить, что среди прочих принципов отношений между старцем и учеником были два существенных для дальнейшего изложения. Во-первых, старец не навязывался ученику в наставники, тот сам его выбрал. Поэтому совет старца ученику равнозначен приказанию. Во-вторых, если совет старца ученику не по душе, нельзя обращаться к другому старцу в надежде на рекомендации более приемлемые.
Трагедией для Гоголя стало то, что идеал человека он увидел в старце Макарии, а своим духовным отцом он сам избрал о.Матвея, который, как и многие православные священнослужители того времени, не понимал и не принимал старчества. Ведь возрождённое старчество в России насчитывало всего каких-то полвека, существовало лишь в нескольких монастырях и многими в Церкви воспринималось как проявление «модернизма».
Закончив второй том «Мёртвых душ», Гоголь принёс рукопись о.Матвею с просьбой прочитать и дать совет. О.Матвей остался рукописью недоволен. Более того, в образе монаха, не замкнувшегося в стенах монастыря, а постоянно находящегося среди людей, облегчая их душевные страдания и давая благие советы на все случаи жизни, о.Матвей увидел «нечто католическое». Вдобавок он, зная, насколько Гоголь к нему привязан, подумал, что положительный герой второго тома списан с него самого, но с искажением образа. И получалось, что сам о.Матвей «не вполне православный священник», что его весьма обидело. Отсюда недалеко было до мысли, что этот образ навеян Гоголю воспоминаниями о католических патерах. А писателя и без того упрекали в том, что он за годы заграничной жизни подпал под влияние католицизма. (Суждения неосновательные: Гоголь сам в письме к С.П.Шевырёву от 11 февраля 1847 года признавался: «…я пришёл ко Христу скорее протестантским, чем католическим путём. Анализ над душой человека таким образом, каким его не производят другие люди, был причиной того, что я встретился со Христом, изумясь в Нём прежде мудрости человеческой и неслыханному дотоле знанью души, а потом уже поклонясь Божеству Его».)
Всё это о.Матвей прямо высказал Гоголю и по совокупности этих и многих других причин посоветовал сжечь рукопись, во всяком случае те главы, где действует непривычный для тогдашнего русского читателя священнослужитель.
Гоголь последовал совету о.Матвея и главы этой редакции рукописи уничтожил. Однако в глубине души он считал, что создал произведение, достойное его гения. И, будь на месте о.Матвея старец Макарий, второй том, вероятно, получил бы одобрение и благословение.
Вдумаемся в трагедию, которая разыгралась в душе Гоголя. Он сам избрал для себя старцем о.Матвея, а тот едва терпит его литературные труды. Знает он также, что оптинские монахи Макарий и Пофирий глубоко интересовались его творчеством, как делом благородным и богоугодным. И вот, увидев, что о.Матвей не тот, кто мог бы быть его понимающим наставником, зная, что всего в двухстах с пятьюдесятью с небольшим вёст от Москвы есть подлинный старец – Макарий, и сознавая, что менять духовного руководителя он не имеет права, Гоголь не в состоянии разрешить трагическое противоречие.
Потребность вновь побывать в Оптиной пустынь и посоветоваться со старцем Макарием (такой форме, чтобы не нарушить обязательства перед о.Матвеем) становилась для Гоголя всё более насущной. Как поступить?
И тут писатель получает от сестры письмо, в котором она извещает, что скоро выходит замуж и приглашает его на свадьбу. Против такой поездки о.Матвей не смог бы возражать.
И вот, отправившись в сентябре 1851 года будто бы на свадьбу сестры, Гоголь, не испрашивая благословения о.Матвея, поехал не прямой дорогой на Украину, а окольной – в Оптину. Во время этой, второй, встречи Гоголя с Макарием произошёл эпизод, немало потешавший ещё современников писателя, а в 1980 году смешно изложенный Владимиром Солоухиным в очерке «Время собирать камни».
Гоголь несколько раз спрашивает совета у старца по, казалось бы, пустяковому вопросу: продолжать ли ему путь на свадьбу сестры или вернуться в Москву?
Потешаясь над Гоголем, В.Солоухин восклицает: «Нашёл о чём спрашивать! Ну, был бы вопрос о том – жить или не жить на свете дальше? Жечь или не жечь «Мёртвые души»?
Но эти насмешки лишь свидетельствуют о том, насколько мало мы, люди нашего времени, понимаем проблемы духовной жизни и как плохо знаем то, что волновало тогда Гоголя, но о чём он не мог сказать прямо.
Писатель, видимо, действительно приехал к Макарию, чтобы по ответам старца на не прямо высказанные суждения решить для себя те самые роковые вопросы…
Не мог же Гоголь сказать Макарию: «О.Матвей посоветовал мне сжечь второй том, а я хочу знать ваше мнение на сей предмет». Макарий просто отказался бы с ним разговаривать: кто поставил старца судьёй над о.Матвеем? Просто по тону беседы Гоголь, видимо, понял, что Макарий по-прежнему сочувственно относится к его творчеству. А у Гоголя уже созревал замысел второй редакции второго тома. Поэтому его, на первый взгляд, странный вопрос на деле был вполне оправданным. Если старец одобряет его творчество, надо поскорее возвращаться в Москву, а не тащиться на Украину, не сидеть за праздничным столом, не кричать: «Горько!»
Конечно, есть обязанности по отношению к сёстрам и матери. И с этой стороны колебания Гоголя понятны. За смешным для постороннего глаза эпизодом скрывалась глубокая душевная драма Гоголя, а второй приезд в Оптину призван был разрешить самые жгучие его сомнения относительно своего творчества.
Так или иначе, но в целом беседы и обмен короткими письмами (там же, в монастыре) были для Гоголя приятными. И на этот раз он вернулся в Москву успокоенным и умиротворённым, каким его и увидели по возвращении близкие люди.
Новая поездка в Оптину ускорила работу Гоголя над поэмой. Буквально за три месяца он не только переделал главы, не понравившиеся о.Матвею, но и переписал полностью законченный второй том (и это параллельно с созданием другого крупного произведения – «Размышлениями о Божественной литургии») .
Современники, вопреки позднейшим суждениям, свидетельствовали о полноте творческих сил Гоголя незадолго до его смерти. А А.О.Смиронова-Россет, слышавшая в исполнении автора весь второй том целиком, писала, что первый том поблек перед ним, ибо здесь «юмор возведён был в высшую степень художественности и соединялся с пафосом, от которого захватывало дух». Но Смирнову вряд ли можно считать авторитетным и тонким ценителем литературных творений.
Последние дни Гоголя были омрачены новыми размолвками с о.Матвеем, требовавшим от ученика, чтобы тот отрёкся от безбожного Пушкина. А Гоголь хорошо знал, какой переворот произошёл в мировоззрении великого русского поэта незадолго до его гибели. В глазах Гоголя Пушкин был не просто воплощением русского человека в полном его развитии, а посланцем из вечного мира красоты и гармонии на грешную землю.
Гоголь знает, что в Оптиной почитают и любят Пушкина, а монах Порфирий с восторгом предаётся своим воспоминаниям о встрече с поэтом.
И мысли писателя вновь и вновь обращаются к Оптиной, которую ему больше не суждено было увидеть. Гоголь сжег и последнюю рукопись второго тома, после чего вскоре умер.
Россия преждевременно лишилась своего великого русскоязычного писателя, а его последнее творение в целостном виде так и не дошло до нас.
Мне кажется, что если бы оно и сохранилось, то вряд ли могло тогда увидеть свет. Духовная цензура не пропускала в печать первый том «Мёртвых душ» на том основании, что души, по учению Церкви, не могут быть мёртвыми. Пришлось книгу назвать «Похождения Чичикова, или «Мёртвые души». Думается, ко второму тому были бы претензии и у светской цензуры. Власть придерживалась той точки зрения, что Россия процветает, а у Гоголя князь обращается с призывом ко всем чиновникам начать беспощадную борьбу с охватившей всю страну коррупцией и пр. Второй том у Гоголя не получился, и вся поэма, ценная лишь формой первого тома, в смысле содержания повисла в воздухе.
ГОГОЛЬ, ЧИЧИКОВ И ХРИСТИАНСКИЙ ИДЕАЛ
Но, допустим, мы глубоко осмыслили то, что дошло до нас от поэмы, и мысленно реконструировали её в духе известного нам замысла писателя. Получился ли у него образ Чичикова таким, чтобы стать одним из самых глубоких образов мировой художественной литературы? Не в том качестве, в каком он уже является таковым, не как персонаж в основном отрицательный – благопристойный мошенник. Пусть Чичиков оказался бы человеком, переломившим, усовершенствовавшим самого себя и ставшим всеобщим примирителем и носителем добра. Все равно Чичиков по глубине общечеловеческого содержания, по степени осознания высокого человеческого призвания не оказался бы в одном ряду с самыми впечатляющими образами мировой литературы. С теми героями, которые, при всех их слабостях и падениях, несут в себе возвышенные, благородные начала. Чичиков не встал бы в один ряд с Гамлетом, Дон-Кихотом, героем «Божественной комедии», Татьяной Лариной, Андреем Болконским, князем Мышкиным и другими всесветно известными литературными героями, которые пробуждают и вечно будут пробуждать лучшие человеческие чувства и воспитывать благороднейшие качества в сердцах читателей.
Вообще-то случаи полной переоценки героев литературных произведений не так уж редки. Обломов долго воспринимался просто как лентяй, предпочитавший валяться на диване, а не заниматься делом. Но в давних дневниках М.М.Пришвина, а затем в книге Ю.М.Лощица «Гончаров» (серии ЖЗЛ) я прочитал, что Обломов - вовсе не лентяй, это натура героическая: если он загорится великой идеей, то пойдёт на любой подвиг ради неё и совершит удивительные дела. А если великой идеи нет, то заниматься теми делишками, какие занимают большинство обычных людей, ему не интересно, уж лучше тогда на диване поваляться. (Замечу, кстати, как К.Леонтьев определил Обломова: «это тот же Тентетников «Мёртвых душ» - только удачнее и симпатичнее исполненный!») Ему противопоставлен в романе Штольц, всегда занятый делом, точнее, приобретательством.
Штольц - немец, и ему такая деятельность вполне подходит. Чичиков, если хотите, это русский Штольц, тоже занятый приобретательством. Но если Штольца никакая идея с пути приобретательства не повернёт, то Чичиков, кажется, и в пылу погони за выгодой будто ждет чего-то более достойного. И на Западе нутром чувствуют, что в поэме Гоголя кроется что-то очень важное для постижения той тайны «славянской души», над которой ломают головы европейские авторитеты вот уже столько веков, и именно в этом - секрет того всплеска внимания там к творчеству автора «Мёртвых душ». От имени возродившегося к новой жизни Чичикова должно было особенно убедительно прозвучать предостережение от «страшной, потрясающей тины мелочей, опутавших нашу жизнь», от пустоты «холодных, раздробленных, повседневных характеров», но одновременно и призыв устремить души людей к высокому, светлому и прекрасному.
Почему же эти замыслы писателя остались неосуществлёнными?
Один из критиков противопоставил Гоголя Есенину. Есенин был величайшим певцом революции: его знаменитая «кабацкая лирика» — это символическое выражение состояния опьянённости подвигом души русского человека, впервые за столетия вышедшего на широкую историческую дорогу (вот почему так люто ненавидели его Бунин с одной стороны и Бухарин с другой). А Гоголь, как уже отмечалось, высмеивает страсть русского человека к подвигу. (Думаю, эту задачу Гоголь ставил неосознанно. Он был убеждён в том, что любит Россию, сам говорил, что не знает, чего в нём больше – «хохлацкого» или «москальского». Поэтому я бы назвал его «любящим недоброжелателем России».)
Выполнив отрицательную часть своей работы по «исправлению» Великороссии на украинский манер, Гоголь решил приступить к части положительной: созданию идеала русского человека. Но... во время этой работы он с ужасом понял, что привычка к измельчению стала его второй натурой, что он безнадёжно заземлил свой талант... и в страшных мучениях умер.
Есть и причина социального порядка: Гоголь занял неверную общественную позицию. В России тогда необычайно обострились социальные противоречия. Крестьянство не хотело мириться с крепостным своим положением, участились крестьянские бунты, случаи убийства помещиков. А Гоголь считал, что нужно лишь, чтобы появился в России миротворец, потому что « все перессорились...»
Сама роль примирителя была бы уместна, скажем, в попытках положить конец судебной распре Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Но в серьёзном социальном конфликте, к тому же исторически усиливавшемся, примиритель становился смешным, да к тому же подвергался бы ударам и с той, и с другой стороны. Гоголь, например, хотел, чтобы помещики стали отцами своих крепостных крестьян, заботились бы об их благосостоянии и духовном здоровье. Он считал, что пусть лучше помещик назовёт крестьянина «неумытым рылом», зато рассудит его ссору с соседом по-божески, чем вводить суд по европейским понятиям. Но помещики в условиях развития товарно-денежных отношений давно уже превратились в кровопийц, не знающих предела своей жажде наживы.
Интересно, что пока Чичиков обращался в среде «мёртвых душ», его образ выписан необыкновенно живо. Стоило Гоголю навязать своему герою надуманную задачу, как образ этот становится бледным и нежизненным.
Но главная причина неудачи Гоголя была в чисто духовной сфере. Он, прожужжавший всем уши речами о своём самоусовершенствовании в христианском духе, в действительности руководствовался ложным, односторонне понятым идеалом христианина. Господь призывал нас становиться совершенными («как совершен Отец ваш Небесный»), но не превращаться в ангелов (что и невозможно), не стремиться стать тем ангельским образом, каким должен быть на земле человек. В монашеской среде имел хождение такой тезис: «Монах для мирянина – то же, что ангел для монаха». О ложности такой установки неустанно говорил один из самых ярких православных богословов начала XX века профессор Московской духовной академии М.М.Тареев.
Господь в Своей Нагорной проповеди дал людям заповеди блаженства, призвав их быть кроткими, милосердными и т.п., но Он также рассказал притчу о талантах. Человек не должен зарывать данный ему Богом талант в землю, ему надлежит осуществить своё призвание (то есть выполнить достойно то дело, к которому призван Господом), живя в миру. Господь сотворил мир, но Он продолжает его творить и призывает человека стать Его соработником в этом творчестве мира. Конечно, самоусовершенствование должно стать делом каждого христианина, но это не то, чем занимался Гоголь и что до сих пор высоко почитается околоцерковными интеллигентами. И нельзя ставить задачу так, чтобы общество изменилось к лучшему через самоусовершенствование каждого. Этого никогда не будет. Господь учит нас не правилам общежития в обществе совершенных людей, а нормам поведения христианина в реальном обществе, которое в принципе не может состоять из одних совершенных существ. Человеку дана свобода воли, и если Иван Карамазов «почтительно возвращает» билет в рай, то и Сам Господь при всём Своём всемогуществе ничего с этим поделать не может. Христос даже выражал сомнение, найдёт ли Он веру на земле в Своё второе пришествие. Он поощрял Своих учеников: «Не бойся, малое стадо!», то есть знал, что верных Ему последователей всегда будет мало.
Потому и выбор Гоголем в качестве главного положительного героя православного священника, точнее - схииеромонаха, был вряд ли оправданным.
Тяга Гоголя к священнослужителям, видимо, объяснялась ещё и страхом смерти, который проявлялся очень часто.
«Как-то о.Матвей во время «трапезы» заговорил о будущей (загроюной) жизни. «Не говорите, замолчите – это очень страшно!» - воскликнул Гоголь. Однако о.Матвею это не было страшно «до перепуга», то есть он говорил хоть и строго и истово, по памяти, без «смятения» перед видящим Богом; а у Гоголя было это смятение, и оно было у него как постоянное чувство. Страх этот у него был особенно сильным по двум причинам. Во-первых, он с детства страда каким-то моральным недугом, который заставлял его ощущать себя страшным грешником. Это проявилось и в первых же его сочинениях (особенно в «Страшной мести»), и в письме оптинскому монаху Филарету (1850 год). Этот страх усиливался, когда он думал о том, сколько бесовщины выставил на свет в своих сочинениях. Во-вторых, он опасался, что его похоронят заживо, поскольку не по книгам знал, что такое летаргический сон (почему и оговорил этот момент в своём завещании, о котором, правда, организаторы похорон и не вспомнили). Розанов дал своё объяснение этому явлению:
«Гоголь всё-таки пугался своего демонизма. Гоголь между язычеством и христианством, не попав ни в одно». Он не был религиозным лицом, религиозной душою. И его страх перед религией – «страх перед тёмным, неведомым, чужим».. Это «демон, хватающийся боязливо за крест». Но Розанов признаёт, что Гоголь, умирая с голоду вследствие долгого поста, на молитве перед смертью говорил окружающим: «Оставьте меня, мне хорошо». И перед самой смертью воскликнул: «Лестницу!», что было истолковано впоследствии его почитателями как признак того, что он видел райские кущи.
А как же Белинский, назвавший Гоголя великим русским писателем, первым взглянувшим смело и прямо на русскую действительность, а первый том «Мёртвых душ» - великим произведением? Он прав. И Гоголь – гений, и первый том «Мёртвых душ» - великое художественное произведение. С присущим ему юмором, через мелочи, Гоголь так показал Русь, что читатели смогли через комическое увидеть ужасы крепостничества, да и вообще ужас жизни, опутанной тиной мелочей. И это сделало Гоголя в глазах Белинского не только первым в стране поэтом, но и вождём на пути прогресса.
И вообще там, где речь идёт о творчестве, игре фантазии, создании иллюзии, Гоголь велик. Но к познанию Руси и русского человека это не имеет никакого отношения. К тому же Белинский, как известно, изменил своё мнение о Гоголе, прочитав его «Выбранные места».
Утвердившееся же в критике мнение, будто после смерти Пушкина Гоголь занял его место, стал главой русской литературы, вряд ли справедливо. Действительно, после гибели Пушкина, а затем и Лермонтова, на литературном поприще заметнее всех был Гоголь. Он хотя и в кривом зеркале, но всё же отразил русскую жизнь. Но сколько-нибудь крупных русских писателей, которые представили бы её в истинном свете, в то время не оказалось. Крылов умер в 1844 году, Жуковский служил при дворе, а если и продолжал заниматься литературным творчеством, то больше переводами иностранных поэтов. Так что в смысле литературы как игры слов, «шалости», искусства «плетения словес» равного Гоголю тогда в России не было. А если судить по содержанию, если задаваться вопросом, во имя чего плетутся эти словеса, то тут ответ будет, по меньшей мере, неоднозначным. Вот в отсутствии достойного содержания и состоял главный упрёк Розанова Гоголю. Это и нашло выражение в его страстных филиппиках против гения формы.
Розанов передаёт отзыв Льва Толстого о «Женитьбе» Гоголя: «Это просто пошлость!» Далее продолжает сам:
«И весь Гоголь, весь – кроме «Тараса» и вообще малороссийских вещиц, - есть пошлость в смысле постижения, в смысле содержания. И – гений по форме, по тому, «как» сказано и рассказано.
Он хотел выставить «пошлость пошлого человека». Положим. Хотя очень странная тема. Как не заняться чем-нибудь интересным. Неужели интересного ничего нет в мире? Но его заняла, и на долго лет заняла, на всю зрелую жизнь, одна пошлость.
Удивительное призвание».
Репин рассказал Розанову о молодых русских художниках в Риме, посещавших вечера у Гоголя, который принимал их величественно и снисходительно, но выказывал ледяное, чопорное, подавляющее отношение ко всем. И Розанов почувствовал, точно перед ни «вырастает из земли главная тайна Гоголя. Он был весь именно формальный, чопорный, торжественный, как «архиерей» мертвечины, служивший точно «службу» с дикириями и трикириями: и так и этак кланявшийся и произносивший этакие «словечки» своего великого, но по содержанию пустого и бессмысленного, мастерства. Я не решусь удержаться выговорить последнее слово: идиот. Он был так же неколебим и устойчив, так же «не сворачиваем в сторону», как лишённый внутри себя всякого разума и всякого смысла человек. «Пишу» и «sic». Великолепно. Но какая же мысль? Идиот таращит глаза, не понимает. «Словечки» великолепны. «Словечки» как ни у кого. И он хорошо видит, что «как ни у кого», и восхищён бессмысленным восхищением и горд тоже бессмысленной гордостью.
- Фу, дьявол, - сгинь!..
Но манекен моргает глазами… Он не понимает, что за словом должно быть что-нибудь, - между прочим, что за словом должно быть дело…
- Оборотень проклятый!.. Снами крестная сила, чем оборониться от тебя*
«Верою», подсказывает сердце. В ком затеплилось зёрнышко веры – веры в душу человеческую, веры в землю свою, веры в будущее её, - для того Гоголя воистину не было.
Никогда более страшного человека… подобия человеческого не приходило на нашу землю».
Замечу, что и К.Леонтьев, никогда и в пылу полемики не позволявший себе оскорблять оппонента, считал Гоголя моральным уродом. Наверное, были у них какие-то основания для подобных утверждений:
То, что в тех условиях 1840-х годов Гоголя можно было считать первым писателем России, можно, таким образом, объяснить. Но с того времени русская литература приобрела всемирное значение, выдвинула целую плеяду великих писателей, которых подчас именуют учителями человечества. И на их фоне по-прежнему считать Гоголя первым или хотя бы одним из первых русских писателей – значит следовать традиции, давно уже по существу утратившей силу.
КТО И ЗА ЧТО ЦЕНИТ ГОГОЛЯ?
Судя по тому, как проходила подготовка к нынешнему юбилею Гоголя, в творчестве этого писателя по-прежнему ценят якобы проповедовавшиеся им духовно-нравственные ценности. Точнее сказать, в современной России снова больше чтят Гоголя как примирителя и религиозного писателя, проповедника духовно-нравственных ценностей, а не как обличителя язв николаевской России. Почему?
Потому что ситуация сложилась во многом схожая. Снова в России стали необычайно острыми противоречия между богатыми и бедными, между либералами у власти и большинством народа. И либералам снова понадобился примиритель, чтобы хотя бы оттянуть момент неизбежного их позорного конца.
Конечно, и ныне есть немало ценителей высокохудожественных творений гения, сознающих, что это – гений формы, вообще явление на поприще литературы, <
|















































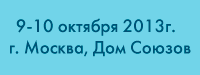











 Много лет назад я, читая пьесу К.Паустовского «Наш современник (Пушкин)», обнаружил там такую сцену. Поэт, заблудившись в лесу, нечаянно вышел в асположение артиллерийской части. А офицер, командовавший батареей, приказал дать салют в честь великого русского поэта. Помню, тогда мне эта сцена показалась надуманной. Но, оказывается, такой случай действительно был. Офицер, устроивший салют в честь Пушкина, впоследствии стал монахом и жил в оптином скиту. Он, монах Порфирий, сохранил пламенную любовь к русской литературе и, естественно, с восторгом принял Гоголя, часто с ним беседовал и горячо уговаривал его продолжить служение Родине художественным словом.
Много лет назад я, читая пьесу К.Паустовского «Наш современник (Пушкин)», обнаружил там такую сцену. Поэт, заблудившись в лесу, нечаянно вышел в асположение артиллерийской части. А офицер, командовавший батареей, приказал дать салют в честь великого русского поэта. Помню, тогда мне эта сцена показалась надуманной. Но, оказывается, такой случай действительно был. Офицер, устроивший салют в честь Пушкина, впоследствии стал монахом и жил в оптином скиту. Он, монах Порфирий, сохранил пламенную любовь к русской литературе и, естественно, с восторгом принял Гоголя, часто с ним беседовал и горячо уговаривал его продолжить служение Родине художественным словом.